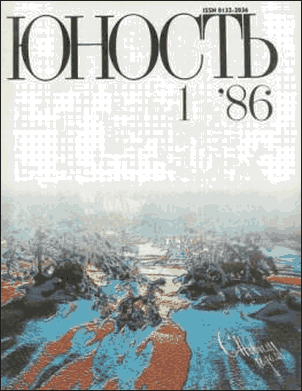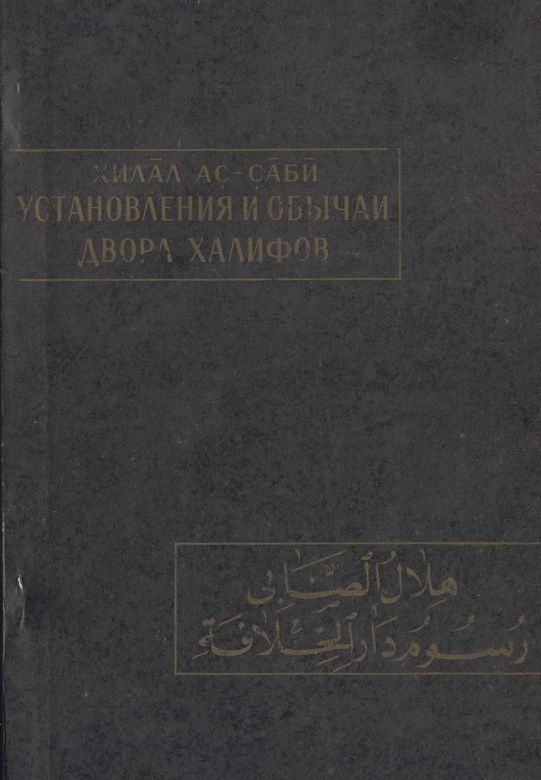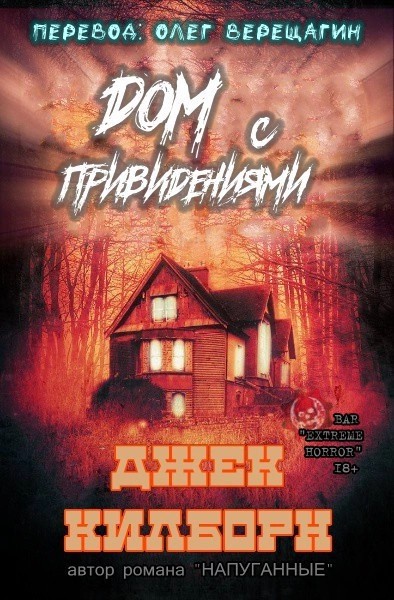Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Трилогия Ю. Белова — «Возлюби ближнего твоего», «Горькое вино Нисы», «Ступени» — посвящена нравственным исканиям молодых людей, наших современников. Герои повестей в суровых жизненных испытаниях мучительно ищут ответ на вопрос: как жить? И в конце концов понимают: нельзя быть по-настоящему счастливым, если думать только о себе, заботиться лишь о собственном благополучии.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Петрович Белов»:
![Горькое вино Нисы [Повести] - Юрий Петрович Белов](/uploads/posts/books/14147/14147.jpg)